Д. И. Старовойтов. В застенках учредилки
 Старовойтов Денис Иосифович (р. 1894) — бывший матрос Балтийского флота, член Коммунистической партии с марта 1918 года. До призыва на военную службу был рабочим на Брянском заводе в Екатеринославе (Днепропетровске). В Самару прибыл в составе отряда балтийцев в марте 1918 года. Принимал участие в боях против мятежного чехословацкого корпуса. После побега из поезда смерти боролся с интервентами и белогвардейцами в рядах дальневосточных партизан. Впоследствии был на советской и партийной работе на Дальнем Востоке и в Калининской области. В настоящее время персональный пенсионер, живет в Калининской области.
Старовойтов Денис Иосифович (р. 1894) — бывший матрос Балтийского флота, член Коммунистической партии с марта 1918 года. До призыва на военную службу был рабочим на Брянском заводе в Екатеринославе (Днепропетровске). В Самару прибыл в составе отряда балтийцев в марте 1918 года. Принимал участие в боях против мятежного чехословацкого корпуса. После побега из поезда смерти боролся с интервентами и белогвардейцами в рядах дальневосточных партизан. Впоследствии был на советской и партийной работе на Дальнем Востоке и в Калининской области. В настоящее время персональный пенсионер, живет в Калининской области.
В дни Октябрьской социалистической революции я находился в Финляндии, в городе Або, где стояла наша часть — 2-я авиационная бригада Балтийского флота.
В марте 1918 года был подписан Брестский мирный договор с Германией. По условиям договора Советское правительство должно было вывести корабли и все соединения Балтфлота из Финляндии. В связи с этим нашу часть перебросили в Самару, куда мы прибыли во второй половине марта 1918 года.
Обстановка в Самаре в то время была очень сложной и тревожной. Белогвардейцы при поддержке правых эсеров, меньшевиков, кадетов почти открыто сколачивали силы для борьбы против Советов. Город наводнили вооруженные банды анархистов. Навербованные из темных и уголовных элементов, эти отряды терроризировали мирное население, занимались вооруженным грабежом, пьянствовали, чем дискредитировали Советскую власть, препятствовали установлению порядка в городе.
К этому надо добавить, что и в Самарском губисполкоме в тот период перевес получили представители мелкобуржуазных партий — максималистов, левых эсеров. Даже пост председателя губисполкома некоторое время занимал максималист.
Многие матросы гидроавиации (так именовалась наша часть здесь) были членами Коммунистической партии. Они вели большую разъяснительную работу среди беспартийных матросов, поэтому наша часть была опорой большевиков и Самарского горисполкома, который был всецело большевистским.
С прибытием в Самару нам поручили охрану внутреннего порядка в городе. С этой целью из нашей части ежедневно выделялись специальные команды, которые патрулировали улицы города.
В конце мая было получено сообщение о начавшемся мятеже чехословацкого корпуса. 31 мая мятежники из Сызрани прорвались через волжский мост на левый берег и двинулись вдоль железной дороги на Самару, тесня немногочисленные отряды советских войск.
По призыву губкома партии наш отряд 1 июня погрузился на пароход. На борту его мы установили четыре пушки и несколько пулеметов. Перед нами была поставлена задача: спуститься вниз по Волге к сызранскому мосту и ударить по мятежникам. Однако наша экспедиция успеха не имела. Не приспособленный для боевых действий пассажирский пароход представлял прекрасную мишень для артиллерии противника, мы же с парохода из-за возвышенных берегов Волги не могли точно определить места расположения мятежников.
2 июня мы вернулись в Самару, а на следующий день, сняв с парохода пушки и пулеметы, отправились на фронт в район станции Липяги.
Наши малочисленные отряды не смогли выдержать натиска во много раз лучше вооруженных регулярных частей чехословацкого корпуса. С большими потерями мы отступили к Самаре.
Во время боя шестеро матросов с пулеметами, в том числе и я, прикрывали правый фланг наших войск. Мы были несколько в стороне, поэтому, когда наши части отступили, мы оказались в окружении. Отстреливаясь, мы пытались пробиться к своим. Четверых товарищей убили, а я и еще один матрос были прижаты к разлившейся реке Татьянке. Бросив пулеметы в реку, мы вплавь переправились через нее. Но, не зная местности, потеряли направление и лицом к лицу столкнулись с отрядом неприятеля. Мы были безоружны, и нас отправили в штаб мятежников на железной дороге.
Так я оказался в лапах белогвардейцев. После того как интервенты захватили Самару, нас вместе с другими пленными отправили в городскую тюрьму. Сначала меня втолкнули в общую большую камеру, где было уже более сорока человек. Здесь я встретил своих сослуживцев по отряду гидроавиации — Григория Малашкевича, Сильвестра Сухорукова, Федора Сазонова, Алексея Зайцева и др. Некоторые из них были захвачены во время неудачного для нас сражения под Липягами, другие, не успев выбраться из города, который они плохо знали, были арестованы в первые дни после переворота. Белогвардейцы боялись держать матросов большими группами в общих камерах, поэтому через несколько дней нас рассадили по одиночкам. Но так как в тюрьму непрерывным потоком доставляли все новых арестованных, теперь уже из среды мирного населения, подозреваемых в сочувствии Советской власти, то в камерах для одиночек нас было по три-четыре и даже больше человек. Большинство заключенных валялось на голом цементном полу. Раненым и больным никакой медицинской помощи не оказывали. Узников держали впроголодь: в день давали фунт (400 граммов) хлеба и пол-литра жидкой похлебки.
Сначала меня втолкнули в общую большую камеру, где было уже более сорока человек. Здесь я встретил своих сослуживцев по отряду гидроавиации — Григория Малашкевича, Сильвестра Сухорукова, Федора Сазонова, Алексея Зайцева и др. Некоторые из них были захвачены во время неудачного для нас сражения под Липягами, другие, не успев выбраться из города, который они плохо знали, были арестованы в первые дни после переворота. Белогвардейцы боялись держать матросов большими группами в общих камерах, поэтому через несколько дней нас рассадили по одиночкам. Но так как в тюрьму непрерывным потоком доставляли все новых арестованных, теперь уже из среды мирного населения, подозреваемых в сочувствии Советской власти, то в камерах для одиночек нас было по три-четыре и даже больше человек. Большинство заключенных валялось на голом цементном полу. Раненым и больным никакой медицинской помощи не оказывали. Узников держали впроголодь: в день давали фунт (400 граммов) хлеба и пол-литра жидкой похлебки.
Однажды к нам в камеру зашел какой-то тюремный чин. Он назвался бывшим морским офицером. Видимо, он хотел прощупать матросов, узнать их настроение и завербовать в белогвардейскую армию. Прикинувшись сочувствующим нам, которые, по его словам, только по своей политической неопытности примкнули к «разрушителям России» — большевикам, он пытался внушить мысль о безнадежности борьбы за Советскую власть
— Вот вы, матросы, — говорил этот офицер, — считаетесь бывалыми, развитыми, а пошли за большевиками, которые разрушили Россию, предали и продали ее Германии... Вы должны теперь своей кровью на фронте против большевиков заслужить прощение России...
Тут мы не выдержали. Матрос Одинцов сказал:
— Вы — офицер и образованный человек, а говорите такую глупость. Мы знаем, за что борются большевики. Они не предатели, а защитники народа.
Другой матрос, Федор Сазонов, разгорячился и, потрясая кулаками, закричал:
— Вы опять хотите нас топить и вешать, как после девятьсот пятого года. Не выйдет, господин офицер!
Офицер ушел. А в двенадцать часов ночи Сазонова вызвали на допрос, и больше мы его не видели. Много позже мы узнали, что его долго держали в одиночной подвальной камере, часто водили на допросы, мучили. А в сентябре по приговору военно-полевого суда его и еще четырех товарищей расстреляли.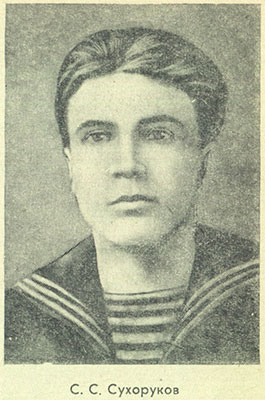 Военно-полевой суд в тот раз приговорил к расстрелу одиннадцать человек. В числе приговоренных кроме Федора Сазонова были еще двое из нашего отряда — Григорий Малашкевич и Сильвестр Сухоруков. Но им повезло. Белогвардейцы повели на расстрел не всех сразу. В первую очередь попали Федор Паршин, Федор Сазонов и еще трое. Их расстреляли... А когда готовились уже вывести остальных, из Комуча пришло решение о замене расстрела долголетней каторгой. Они получили по двенадцать лет каторги и были отправлены в Сибирь.
Военно-полевой суд в тот раз приговорил к расстрелу одиннадцать человек. В числе приговоренных кроме Федора Сазонова были еще двое из нашего отряда — Григорий Малашкевич и Сильвестр Сухоруков. Но им повезло. Белогвардейцы повели на расстрел не всех сразу. В первую очередь попали Федор Паршин, Федор Сазонов и еще трое. Их расстреляли... А когда готовились уже вывести остальных, из Комуча пришло решение о замене расстрела долголетней каторгой. Они получили по двенадцать лет каторги и были отправлены в Сибирь.
Пока я находился в тюрьме, каждую ночь из камер выхватывали людей, уводили, и больше они не возвращались. Говорили, что арестованных вывозят на Коровий остров и там расстреливают.
По мере развития успехов Красной Армии на фронте тюремный режим становился все более жестоким. Охрана тюрьмы, по-видимому, была специально подобрана из самых оголтелых ненавистников Совётской власти. Камера, в которой я сидел, находилась на первом этаже, ее окно выходило на тюремный двор. Однажды перед окном нашей камеры остановилось несколько солдат-охранников, и, возможно, умышленно они начали громко толковать о скором падении Москвы, грубо издеваясь над нашими вождями. Я не стерпел и крикнул из окна:
— Кишка тонка у вас завоевать Москву. Пожалуй, скоро и из Самары драпать придется.
Охранники рассвирепели, ворвались в камеру и жестоко избили меня прикладами. Я думал, что меня прикончат совсем. Но видя, что я уже перестал шевелиться, охранники ушли.
Голод, скученность и антисанитария подрывали физические силы заключенных, многие заболевали. А в тюремную больницу брали только с обнаруженными заразными болезнями, все остальные оставались в камерах на попечении своих товарищей, которые еще не окончательно потеряли силы.
У меня начались сильные головокружения и рвота. Вызванный товарищами тюремный фельдшер заявил, что это результат крайнего истощения. Однако в больницу меня перевести не разрешили, хотя я не мог уже держаться на ногах. В таком же положении были сотни других товарищей.
 Самарская подпольная организация большевиков оказывала помощь заключенным. Через подпольный Красный Крест и профсоюзы, используя все другие возможные пути, большевики доставляли в тюрьму продукты. Эта помощь многих спасла от гибели. Но обеспечить питанием заключенных, количество которых все увеличивалось, было невозможно.
Самарская подпольная организация большевиков оказывала помощь заключенным. Через подпольный Красный Крест и профсоюзы, используя все другие возможные пути, большевики доставляли в тюрьму продукты. Эта помощь многих спасла от гибели. Но обеспечить питанием заключенных, количество которых все увеличивалось, было невозможно.
Волнующие и тревожные дни мы пережили в начале сентября. Один из заключенных коммунистов в передаче с воли получил запеченную в булку записку. В ней товарищи сообщали, что солдаты одного из полков белой армии, распропагандированные большевиками, готовятся к восстанию. Выступление этого полка намечалось на самые ближайшие дни. Предполагалось, что ночью по установленному сигналу солдаты расправятся с белыми офицерами и освободят из тюрьмы политзаключенных. Одновременно должны были выступить большевистски настроенные группы солдат и в других частях.
Трудно описать наше душевное состояние в последующие дни. Надежда сменялась сомнениями, радость — отчаянием. Нам уже назвали определенную дату начала восстания. Но, увы, за два дня до этого срока белогвардейская контрразведка раскрыла заговор. Нам передавали, что многих солдат белые расстреляли, многих присудили к каторге.
В эти дни охрану тюрьмы полностью приняло военное ведомство учредилки. Во двор ввели воинскую часть, в нескольких местах установили пулеметы. Теперь охрана без предупреждения стреляла, если кто-либо из заключенных осмеливался подходить к окну. А по ночам из камер еще чаще стали брать большевиков и всех, кого контрразведка считала наиболее опасными.
Все мы, большевики, находившиеся в тюрьме, с часу на час ждали расправы. Ночью почти не спали, прислушиваясь к шагам в коридорах, к скрежету открываемых замков и дверей.
И вот однажды многим из нас объявили:
— Приготовиться с вещами!
Хотя мы были уже подготовлены к самому худшему, но при этом распоряжении сердце дрогнуло. Значит, конец. Прощайте, товарищи...
Нас вывели во двор. Там было много заключенных, а из камер выводили все новые группы. У забора с винтовками наперевес цепью стояли солдаты.
Это происходило днем, и не похоже было, чтобы такую массу людей осмелились расстрелять среди бела дня. И действительно, один из надзирателей шепнул, что нас повезут в лагеря для военнопленных. Мы вздохнули с облегчением.
Нас пересчитали, окружили плотной цепью конвоя. Начальник конвоя прочитал нам напутствие; шаг в сторону будет считаться побегом, а конвойным приказал: в случае побега стрелять без предупреждения.
Мрачная колонна вышла из ворот тюрьмы. Изможденные, обросшие, в грязных отрепьях, мы производили жуткое впечатление. Многие были настолько истощены и больны, что без посторонней помощи не могли идти. Более сильные товарищи вели их под руки.
Еще до того как нас вывели, около тюрьмы собралась толпа народа, главным образом женщины. Это были родственники арестованных, которые какими-то неведомыми путями узнали о предстоящей эвакуации партии заключенных. Женщины стремились передать своим родным продукты, одежду. Но конвой и близко не подпускал их к нам...
Нас привели на станцию и погрузили в товарные вагоны. Условия в пути в битком набитых вагонах были кошмарны. Но в этот раз мы все же меньше испытали невзгод и лишений, чем впоследствии, когда нас везли в Сибирь. Сейчас нас отправляли в Тоцкие лагеря.
В Тоцких лагерях нас разместили в грязных и холодных бараках с выбитыми стеклами. Был сентябрь с холодными ночами, а у нас, арестованных летом, не было ни теплой одежды, ни постельных принадлежностей. На ночь, когда наступало время ложиться спать, мы валились все в плотный ряд, на один бок, чтобы как-то согревать друг друга. Перевертываться на другой бок приходилось всем одновременно, по команде крайнего. На край ложились по очереди. Пробыв крайним определенный срок, этот товарищ переходил в середину, чтобы согреться. Таким образом, большая часть ночи у нас проходила в перемещениях.
Кроме усталости и изнеможения от недосыпания, нас еще больше, чем в тюрьме, мучил голод. Заключенному полагался на день фунт хлеба. Но давали здесь значительно меньше, к тому же сырого и горького. Не лучшего качества была и похлебка, которую мы получали один раз в день.
Крестьяне окрестных сел, узнав, что в лагерь привезли большевиков и пленных красноармейцев, пытались помочь нам. Но вся беда была в том, что передачи принимались лишь от родственников определенным лицам. А крестьяне, конечно, не могли знать фамилий заключенных.
Были попытки со стороны крестьян перебрасывать за колючую проволоку хлеб. Но конвой пресекал это – самым жестоким образом.
Помню такой случай. Одна крестьянка долго упрашивала часового разрешить ей передать буханку хлеба в лагерь. Часовой, ругаясь, гнал ее прочь. Но вот часовой отвлекся, и женщина, воспользовавшись этим, положила буханку прямо на колючую проволоку. Один из заключенных поторопился подбежать к проволоке и потянулся за хлебом... В этот момент часовой обернулся. Он быстро вскинул винтовку. Не успели мы крикнуть товарищу, как раздался выстрел, и заключенный повис на проволоке. Он был убит наповал...
Этот случай произвел на всех нас тягостное впечатление, и мы начали искать способ вырваться из этого ада.
Я подружился с двумя товарищами, бывшими красноармейцами. Сейчас не могу вспомнить их фамилий. Одного, кажется, Котов. И мы решили, что лучше погибнуть от пули охранников, чем переносить такие мучения. Сговорились бежать.
На нашем пути было много препятствий. Нужно было незаметно выйти ночью из барака, недалеко от которого был караульный пост, затем перебраться через проволочное заграждение, проползти открытую площадку, где находилось караульное помещение, а потом подкопаться под высокий забор. Дальше нужно было переплыть или перейти вброд небольшую речку, а там — на все четыре стороны.
И вот, выбрав удобный момент, мы выскользнули из барака и подползли к проволочному заграждению. Перелезть через него оказалось невозможным. Пришлось подкапываться. Это заняло несколько минут. Впереди — открытая площадка...
При разработке плана побега мы не учли одного очень серьезного обстоятельства. Ночи были лунные. Это и сгубило нас. Часовой, по-видимому, заметил нас или услышал шум. Раздался выстрел, поднялась суматоха, забегали охранники.
Недалеко был какой-то небольшой сарайчик без двери. Мы вползли в него, двое прижались в угол, а я оказался около входного отверстия. Ждем, что будет дальше. Слышим шаги, возбужденные голоса. Идут к нашему сарайчику.
Бежать некуда. Подошли пятеро, один направил на меня свет фонаря, остальные взяли на прицел.
— А, вот он, голубчик. А ну, выходи!
Я вышел, и палачи обрушили на меня град ударов прикладами. Я упал оглушенный.
— Сколько вас? — спросил охранник.
У меня мелькнула мысль, что они, может быть, не заметят третьего товарища, прижавшегося в углу. И я ответил: «Двое».
— Врешь, собака! — и на меня посыпались удары.
Затем охранники закричали моим товарищам, сидевшим в сарае:
— Выходи!
Те молчали и не выходили. Тогда солдаты дали залп в сарай. Один товарищ вышел, а другой застонал. Он был тяжело ранен.
Нас заставили вынести из сарая раненого. Один из охранников тут же еще раз выстрелил в него, и он затих.
А нас повели в карцер, награждая по дороге ударами. Рассадили в одиночные камеры.
Я очутился в темном, сыром и холодном каземате. В изнеможении свалился на прибитую к стенке доску. Но часовой направил в форточку, проделанную в дверях, ствол винтовки и приказал встать. Остаток ночи я стоял не двигаясь. Это было, кажется, самое тяжелое испытание из всего, что я пережил.
Утром в камеру ввалился фельдфебель с двумя охранниками. В руках у него была плетка.
— Что, хотел к большевикам бежать? — злорадствовал фельдфебель. — Я отучу вас бегать. Жалко, что вчера не прикончили вместе с твоим дружком.
Приговаривая так, палач хлестал меня плеткой, пока лицо не залилось кровью.
Утром следующего дня в коридоре послышались шаги, звон шпор. Надзиратель открыл дверь в камеру и скомандовал: «Встать».
Пожаловал сам комендант лагеря. Молча постоял передо мной, размахнулся и изо всех сил ударил по лицу. У меня потемнело в глазах, зазвенело в ушах, и я упал. Офицер, не говоря ни слова, повернулся и вышел.
С таким примерно распорядком дня продержали нас в каземате неделю. А затем вместе с другими заключенными погрузили в вагоны и повезли в Сибирь.
Везли нас в Сибирь в таких же условиях и так же мучили, как и узников других поездов смерти. Я не буду вдаваться в подробности этого пути. Об этом есть воспоминания других товарищей. Отмечу лишь, что если часть узников нашего эшелона осталась в живых, то этим мы обязаны бескорыстной помощи нам со стороны рабочих тех станций и городов, мимо которых проходил наш страшный поезд. Несмотря на грубость, окрики и запреты наших конвоиров, невзирая на явную опасность быть убитыми или арестованными, рабочие и их жены пробирались к эшелону и ухитрялись передавать нам хлеб. До конца дней наших мы не забудем этой братской солидарности сибирских товарищей, которые по заданию подпольных организаций Сибири организовывали нам помощь.
В пути, между Уфой и Челябинском, я решил сделать еще одну попытку вырваться на свободу. Ко мне присоединилось четверо товарищей. Обсудили, обдумали и приняли решение выброситься в люк, когда поезд замедлит ход на подъеме.
И вот этот момент наступил. Бросили жребий, кому прыгать первому. Досталось матросу Боровкову. Еще до наступления ночи мы заняли места около люка. Глубокой ночью, когда большинство обитателей вагона забылось во сне, мы приготовились к побегу. Тихонько открыли люк. Помогли Боровкову подняться к люку, поддержали. Боровков был ловкий парень. Как кошка он пролез в узкий люк и бросился вниз. Насколько мы могли судить, прыжок был удачным. Счастливого пути, дорогой товарищ!
Поднимается другой. Но с этим товарищем вышла большая неудача. Полой своей куртки он зацепился за крюк у окна и застрял. А поезд пошел быстрей. Парень растерялся и крикнул. Мы не успели ничего предпринять, как с одной из ближних тормозных площадок раздался выстрел. Товарищ вскрикнул еще раз и, оторвавшись, полетел вниз. Нам послышался стон. Он, по- видимому, погиб.
Поезд остановили. Конвойные стучали в каждый вагон, спрашивали, из какого вагона бежали. Мы прикинулись спящими, сказали, что у нас никто не собирался бежать. Так конвой ничего и не узнал. Но нас предупредили, что в следующий раз, если случится побег, из вагона будет расстрелян каждый десятый.
Сорок дней нас везли в этой страшной тюрьме на колесах. Нигде, ни в одном городе Сибири, нас не принимали ни в тюрьму, ни в лагеря. В ноябре нас привезли во Владивосток. Казалось, что здесь, где кончается русская земля, нас обязательно высадят из вагонов. Ведь ехать дальше некуда! И те, кто остался жив, с надеждой ждали этой минуты.
Но нет. И здесь в тюрьме не оказалось свободных мест. Дальневосточные белогвардейцы проявляли не меньшее рвение в арестах, чем их самарские и сибирские собратья. И нас отправили обратно в Никольск-Уссурийский.
Два дня нас держали в эшелоне на станции Никольск-Уссурийский. Затем приказали выйти из вагонов.
Огромная толпа заключенных представляла страшное зрелище. Многие не в состоянии были держаться на ногах и неподвижно лежали на холодной земле. Их оставили около эшелона, и дальнейшую судьбу их я не знаю. А всех остальных, еще способных передвигаться, построили и повели. Как потом оказалось, вели в тюрьму или в какие-то бараки, приспособленные для заключения.
Когда мы отошли от города примерно полкилометра, сзади послышался конский топот. Прямо на нас мчалась галопом группа казаков. Они налетели на задние ряды и принялись хлестать заключенных нагайками. К нашему счастью, вмешался наш конвой, который прекратил эту расправу. Казаки с руганью повернули обратно. Впоследствии мы узнали, что здесь, в царстве кровавого атамана Калмыкова, почти все партии заключенных встречались оравой пьяных казаков, которые тешились тем, что шашками плашмя и плетками избивали людей, топтали их конями. В нашей партии было ранено человек десять. Считалось, что мы легко отделались.
Но и в здешней тюрьме не оказалось места. На ночь нас загнали в какое-то нежилое здание. Голодные, раздетые, смертельно усталые и подавленные мрачными предчувствиями, мы провели очень тяжелую ночь, почти не смыкая глаз.
Наступило пасмурное утро. Заключенные попросили часового разрешить принести воды из видневшегося недалеко колодца. Часовой разрешил. Двое заключенных взяли ведра и направились к колодцу. Часовой не выпускал их из поля своего зрения.
Я еще с вечера решил, что отсюда удобнее всего бежать. С раннего утра был наготове, ждал только подходящего момента. Вот теперь, пока часовой стоит спиной к выходу и немного даже отошел в сторону, этот момент наступил.
Выскользнув из двери, я тихо иду к соседнему зданию, в противоположную сторону от часового. Хочется со всех ног бежать, но невероятным усилием сдерживаю себя. Жду, что вот-вот сзади раздастся выстрел или окрик часового... Но все тихо. Навстречу мне марширует рота японских солдат. Стараюсь сделать безразличное лицо... Все обошлось благополучно, я отошел на приличное расстояние, теперь уже и выстрел был бы не опасен.
Свобода! Но не так-то просто сохранить свою свободу, у меня ни денег, ни продуктов, ни адреса, куда я мог бы явиться. Что делать?
Вблизи — небольшая речка, точнее ручей, на противоположном берегу — густой кустарник. Перехожу на ту сторону, ложусь в кустах и не двигаюсь до наступления темноты. На мне матросский бушлат и рваные ботинки, которые плохо защищали от ноябрьского холода. К ночи продрог до костей, тело от неподвижности онемело. Ночью стало еще холоднее. До самого утра не смыкал глаз.
С наступлением утра осторожно продвигаюсь к городу. Добрался до железнодорожной станции Никольск-Уссурийский. Вижу около депо рабочего, подхожу к нему, откровенно говорю, кто я такой и откуда и прошу указать, где найти приют.
Рабочий не очень удивился, видно, это был не первый такой случай. Он посоветовал идти в рабочий поселок и указал дом, в который зайти. Нашел этот дом. Встретили как родного, обогрели, накормили, дали пару белья, шапку, снабдили хлебом и проводили за город по дороге в село Глуховку, в котором советовали зайти к жителю этого села Краснову.
У Красновых ночевал, а утром на следующий день они проводили меня в село Раковку к Кириллу Петровичу Степаненко. В селе Раковке я прожил до марта 1919 года. В марте участвовал в организации крестьянского восстания против колчаковской власти, затем в рядах дальневосточных партизан, а позже — Народно-революционной армии Дальневосточной республики боролся против белогвардейцев и иностранных интервентов до тех пор, пока весь Дальний Восток не был очищен от них.
1958 г.