1. Первый день практики
Когда я начал учиться на продавца москательных и аптекарских товаров, в первый же день знакомства с новой профессией мой хозяин пан Колошка пригласил меня в свою контору, – как он называл закуток, отгороженный от лавки деревянной перегородкой.
Пан Колошка, пожилой человек с густой растительностью на лице, такого небольшого росточка, что я, пятнадцатилетний парень, был выше него на голову, уселся возле письменного стола на стул и, не сводя с меня маленьких колючих глазок, заговорил:
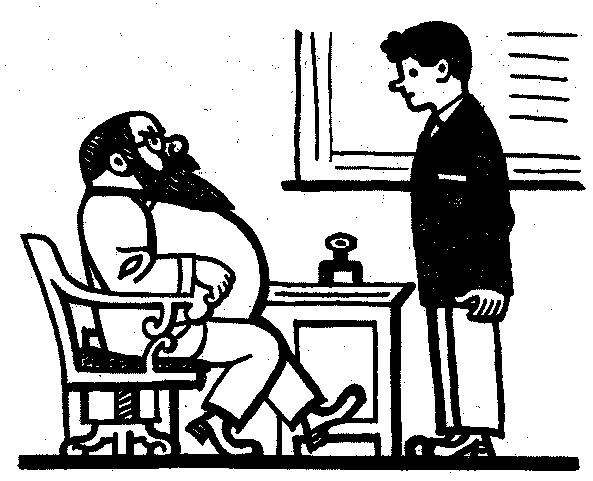
– Итак, с сегодняшнего дня вы мой новый практикант и потому извольте выслушать со всем вниманием мои слова и постарайтесь следовать им в течение всей жизни. Вам, наверное, известна пословица «Добрый совет дороже золота». Так вот, навострите уши и слушайте, что я говорю, Ваша новая профессия не из легких. Еще недавно вы учились в школе и единственной вашей заботой было вызубрить что‑нибудь наизусть. Но кроме латыни, которую вы как гимназист четвертого класса, полагаю, немного знаете, продавцу аптекарских товаров больше ничего не пригодится. В лавке вас не спросят, когда правил тот или иной король или, скажем, что такое геометрия и тому подобное. В лавке никого не интересует, как далеко от нас до какой‑нибудь звезды, никому не интересно и то, через «и» или через «ы» пишется цыпленок. В лавку приходит покупатель, и ему безразлично, правильно вы говорите по‑чешски или нет, и вы к нему с этим тоже не приставайте, вполне достаточно понять, что́ ему нужно, и обслужить как положено. В лавке надо уметь считать и не просчитываться. Нужно все прикинуть. Вот это и есть торговля. Вы человек молодой и должны учиться на живом примере, а не по книжкам, как в школе. Когда появится покупатель, выслушайте его и, пожелай он хоть луну с неба, вскарабкайтесь на небо и достаньте ему луну. А после думайте о покупателе что угодно, но только про себя. Торговец, запомните, живет за счет покупателей. Если кто заходит в лавку, вы должны кричать: «Низко кланяюсь, милостивый государь! Целую ручку, сударыня! Мое почтение, барышня!» И оставаться вежливым, даже когда покупатель уходит, ничего не купив. Отпуская товар – правда, до этого дело дойдет не так скоро, но запомните наперед – вам следует говорить: «Что угодно, чем могу служить» и тому подобное, и суетиться, поворачиваться, быть расторопным и никогда не обсчитывать. Если на складе чего‑то нет, предложите другой товар, главное – не упустить покупателя. Всучите ему, раз уж он зашел, что попало: нужна ему, к примеру, зубная щетка – подсуньте зубной порошок, а если нужен зубной порошок – подсуньте зубную щетку и убеждайте, что это можно купить только по случаю. Врите все, что взбредет на ум, со временем вы этому обучитесь, но, понятное дело, врать можно только покупателю, а не мне. Я для вас как отец родной, а если я иной раз и обругаю – не перечьте, потому что я вспыльчив. Мои приказания следует выполнять незамедлительно. У меня все должно идти, как в армии. Вы обязаны быть честным, – думаю, это можно не объяснять, – не имеете права лакомиться сладостями, разбивать что‑то. Вы обязаны работать, вам это только на пользу. Все это я говорю по‑отечески. По утрам будете приходить ко мне домой за шкатулкой с ключами, потом пойдете в лавку. Придет приказчик, вы с ним отопрете лавку, вывесите ангелочка, вернетесь в лавку, вытрете пыль, чтоб везде было чисто, а я приду в восемь часов и отдам распоряжения. В десять утра будете приходить ко мне в контору, получите деньги, купите мне кружку пива, две булки и сардинку. В час дня можете пойти пообедать, вернетесь в два. В четыре часа зайдете ко мне в контору, получите деньги и сходите в кофейню за кофе.
Запомните – чтоб сливок было побольше. В восемь часов снимаете ангелочка и вместе с посыльным закрываете лавку. Ключ кладете в шкатулку, приказчик шкатулку запирает, ключ берет себе, а вы приносите шкатулку с ключом от лавки ко мне домой. Раз в полмесяца разрешаю вам с десяти до одиннадцати ходить в костел. И главное – слушать меня, а не других в лавке. Сегодня будете протирать бутылки и банки, пока все. Протирая, приглядывайтесь к надписям по‑латыни и по‑чешски и примечайте, где что находится, так понемногу всему и научитесь. Запомните все это хорошенько и ступайте!
Я вышел из конторы в смятении. Все наставления в моей голове перемешались, а когда я подошел к прилавку, приказчик Таубен сказал:
– Ну что, измучил вас наш старый Радикс?
– А кто это? – робко спросил я.
– Да наш Колошка, – ответил приказчик, – мы называем его «Радикс», что означает корень. Такие уж у нас, продавцов аптекарских товаров, прозвища, молодой человек. Понимаете, наш Радикс, как говорится, слегка прибит пыльным мешком, а в общем человек он добрый. Думаете, эти наставления он сам придумал? Как бы не так, молодой человек! Все это он заучил наизусть, со слов жены. Жену его мы называем «Ацидум», то есть кислота. Не смотрите на старика как на господа бога. Он, по сути дела, ничто, всем заправляет его жена. Вот появится она – сами увидите, кто тут, собственно говоря, хозяин. Так что, молодой человек, слушайте нас. Старик наверняка велел вам сегодня протирать бутылки и банки. Протирайте, только не торопясь. Как можно медленнее. В работе спешка ни к чему. А то он живо свернет вас в бараний рог. Если до вечера протрете пятнадцать банок, считайте – уже хорошо поработали. Протирайте их всю неделю, потихонечку, полегонечку. Не надрывайтесь, а то он начнет на вас валить, чем дальше, тем больше, А появится его старуха, бегите и целуйте ей руку. Если Радикс пошлет вас по делу к поставщику или еще куда с поручением, идите неторопливо, словно вышли на прогулку, я тоже так делал. Главное, не возвращаться быстро. А то он вас просто загоняет, привыкнет, что вы скоро возвращаетесь, и решит, что вы должны бегать.
Помолчав, пан Таубен добавил:
– Я вижу, вы сообразительный молодой человек, вот вам на два литра пива, идите вон туда, в конце склада, на дне бочки – видите ее отсюда? – есть кувшин. Возьмите его и черным ходом пройдите через двор в пивную. Принесите два литра пива. Кувшин с пивом снова поставите в бочку. Выпейте, сколько захочется. Знаете, я ведь тоже был практикантом.
Пан Таубен дал мне деньги, и я выполнил его поручение. Спрятав кувшин в бочке, я вернулся и начал протирать банки так медленно, как только мог.
Через полчаса пан Колошка позвал меня в контору.
– Вот что я забыл, – сказал он. – Если пан Таубен пошлет вас за пивом, сразу скажите мне. Говорят, пан Таубен любит посылать практикантов за пивом…
К событиям первого дня следует добавить, что я ходил за недозволенным пивом для пана Таубена в общей сложности пять раз и слышал, как на вопрос посыльного: «Ну, а как молодой практикант?» – пан Таубен ответил: «Уже обращен в нашу веру и называет старика «Радикс»…»
2. Наставления пана Таубена
В последующие два дня я по совету пана Таубена неторопливо протирал бутылки и банки.
– Если придет Радикс, – наставлял меня пан Таубен, – и поинтересуется, почему вы до сих пор не закончили работу, скажете, что изучаете надписи; впрочем, отложите‑ка это дело, сейчас я покажу вам наше заведение.
Приказчик повел меня по дому. Лавка пана Колошки помещалась в старом здании. Теперь его уже нет. Этот потемневший от времени дом был пропитан запахом сушеных лекарственных трав, который в первые дни одурманивал меня и так въелся в мою одежду, что любой издалека мог почуять – идет будущий продавец аптекарских товаров.
У этого старинного дома была своя неповторимая прелесть. В моем воображении возникали лаборатории алхимиков и средневековые аптеки, про которые я читал. Как бы в подтверждение этого на складе хранились две огромные ступки и несколько больших реторт, стоявших на черных от пыли и таких же грязных, как реторты, подставках.
Со склада пан Таубен повел меня в подворотню, под сводами которой громоздились корыта, лохани, скалки и тому подобные предметы, которыми торговала женщина, сидевшая на скамеечке у выхода на улицу.
– Это бондарка Кроупова, – сказал приказчик, – муж ее порядочная дрянь и все, что она за день заработает, пропивает в соседней пивной. Он оттуда не вылезает, а когда деньги кончаются, идет к жене и спрашивает: «Продала что‑нибудь?» Бондарка отвечает: «Одну лохань». А муж ее на это: «Всего‑то на восемь кружек пива». Он все считает на кружки. А станете постарше, молодой человек, поймете, что означают мои слова: она все терпит, потому что находится с ним в сожительстве.
– Не спешите, – продолжал пан Таубен, – если кто зайдет в лавку, Радикс его обслужит. Эту пивную вы уже знаете. Ближе к двадцатому денег на пиво у меня не будет, станете брать в долг; Но хозяин там такая продувная бестия, молодой человек, что за ним нужен глаз да глаз, не то он вместо двух литров запишет вам три, такое уже бывало. А вот жена у него хорошая. Если она придет в лавку покупать спирт, наливайте ей – когда со временем станете отпускать товар – чистый спирт, а не разбавленный водой, который мы продаем покупателям. Она настаивает вишневку, а я иной раз забегаю пропустить рюмочку, пусть уж настойка будет крепкой. Прежний практикант налил ей как‑то разбавленного, и лучше не спрашивайте, что это была за вишневка. А трактирщику, если он попросит желудочные капли, дайте их бесплатно: он‑то и по три месяца ждет уплаты моего долга.

Вон там – видите два грязных окна – живет дворничиха Паздеркова, она по утрам заходит к нам за рюмочкой тминной водки. Радикс распорядился наливать ей тминную бесплатно, а то она весь дом вверх дном перевернет. Все эти три дня, как вы здесь, она не появлялась – болеет. Стоит учителю ее сына, рыжего Францека, оставить его после уроков, как она заболевает. Францеку одиннадцать лет, но хулиган он жуткий. Никому от него нет покоя, что он только не вытворяет, но всыпать ему мы не рискуем. Я застал его однажды, когда он сверлил дырку в жестяном баллоне с маслом, и дал подзатыльник. Тут примчалась в лавку старая Паздеркова и требовала, чтобы Радикс меня немедля уволил. А сколько было крику на улице перед лавкой! Сбежался народ, она держала Францека за руку, мальчишка ревел в голос, она вопила, что в лавке находится человек, который ее невинного и беззащитного ребенка избил до потери сознания. Пришлось угостить ее тминной, а Францеку дать конфетку. Рыжий Францек меня просто извел. А вот погодите, летом во дворе увидите спектакль: Францек в чем мать родила станет с утра до вечера плескаться в корыте посреди двора. На втором этаже живет старая дева, так она, увидев однажды Францека в этаком виде, упала в обморок. Паздеркова все покупает у нас за полцены. А эти окна – мясника пана Каванека; он всегда приглашает меня на домашний зельц и посыльного угощает. Это мы с посыльным называем – встречный счет. Он нас не обсчитывает, и мы его тоже. Как в немецкой пословице: «Leben und leben lassen»[1]. Мы продаем ему приправы по обычной цене, но если придет пан Каванек за какими‑нибудь пряностями, взвесьте ему полтора, а посчитайте всего за килограмм. Он угостит вас зельцем… Только на глазах у хозяина не ешьте. Прежний практикант уносил зельц домой. Со временем все узнаете. А теперь пойдем в подвал.
Пан Таубен открыл дверь подвала и зажег фонарь. Из темноты шибануло в нос чем‑то кислым и затхлым и послышался писк.
– Это крысы, – объяснил пан Таубен, – прежнего практиканта одна укусила; в старых домах, молодой человек, они везде водятся. С тех пор как наш Радикс изобрел специальный яд для крыс, они невероятно расплодились. Особенно в летние месяцы в подвале то и дело шныряют эти серые твари. А кошки здесь не удерживаются с тех пор, как возле мясника поселился новый жилец. Вообразил, что у него чахотка, ловит кошек, сдирает с них шкуру и прикладывает себе на грудь. Осторожно, не поскользнитесь на ступеньках, здесь все еще не просохло с тех пор, как мы с посыльным разбили баллон с дистиллированной водой. Пришлось покупателям давать обыкновенную воду, из колодца. И все капли теперь с молочным оттенком, потому что при их изготовлении приходилось вместо дистиллированной воды брать колодезную. Наш Радикс отказался уже от трех поставщиков, решив, что они продали ему какое‑то низкосортное масло и эфир для капель. Вот как, молодой чёловек, надо действовать. Никогда не теряйте голову, главное дело, старайтесь надуть старика – ведь если мы когда‑нибудь заделаемся хозяевами, нас тоже будут надувать. Я привел вас в подвал, молодой человек, чтоб показать, где стоит оливковое масло.
Пан Таубен открыл деревянную перегородку и произнес, указывая на жестяной баллон:
– Видите, вот это оливковое масло, хотя написано «масло льняное». Если Радикс пошлет вас в подвал с бутылкой за оливковым маслом, наполните ее льняным, потому что полгода назад баллон с оливковым маслом разбился. Бывает, что покупатели это масло возвращают, и старик уже кучу писем написал фирме‑поставщику, почему‑де ему прислали такой плохой сорт. Радикс сюда не ходит, он до смерти боится крыс, так что жалуйтесь, мол, в подвале крыс развелось – просто ужас! Ладно, пошли обратно.
Когда мы снова вышли во двор, пан Таубен сказал:
– Да, молодой человек, вы обратили внимание на кондитерскую за домом? Тамошние ученики ходят к нам летом за неочищенной солью для мороженого. Давайте им соль бесплатно, а они накормят вас мороженым, я его тоже люблю. Но чтоб старик не видел, когда будете его есть. На чердак сегодня уже не полезем, Радикс и так небось с ума сходит – ведь он в лавке один, а там сейчас самый наплыв покупателей.

– Где вы шлялись, пан Таубен? – злился пан Колошка, когда мы вернулись в лавку. – Вы гуляете, а я тут работай как вол.
– Прошу прощенья, пан хозяин, – ответил пан Таубен, – я знакомил нового практиканта с нашим заведением и давал ему наставления.
– Это другое дело, – успокоился пан Колошка, – постарайтесь научить его всему, чтоб от него был какой‑то толк.
– Слушаюсь, пан хозяин, – ответил пан Таубен, – надеюсь, толк от него будет.
3. О пане Фердинанде, посыльном
Пану Фердинанду в ту пору было около сорока. Его высокий лоб свидетельствовал о необычайно развитом интеллекте, что мне и подтвердил пан Таубен: «Хитрый малый».
У него были добрые серые глаза, каштановые волосы и темные усики; но прежде всего в глаза бросался его красный нос, верный признак того, что некогда пан Фердинанд работал посыльным в лавке спиртных напитков.
Одежда его была засаленная, грязная, покрытая всевозможными жирными пятнами, в дырах, прожженных кислотами, измазанная краской для пола; пиджак был испещрен масляными красками, на жилете блестел бронзовый порошок, намертво въевшийся в пятна от раствора каучука в бензине. Левый рукав его пиджака вонял скипидаром, правый благоухал толченой корицей. Короче, здесь была представлена пестрая мешанина из лекарственных трав и различных химикалий. И в пивной, как я позднее узнал, пан Фердинанд садился на свое место перед приоткрытой дверцей печки, вдали от всех, чтобы запах его рабочей одежды не отпугивал остальных посетителей.
При этом следует отметить: пан Фердинанд всегда ходил в начищенных до блеска ботинках. Закончив какую‑нибудь работу, он шел на склад и драил там их до зеркального блеска.
Пан Колошка уверял, будто пан Фердинанд «убивает» таким образом время, но как бы ни было, пан Фердинанд то и дело чистил ботинки.
С этого началась и наша довольно доверительная беседа с паном Фердинандом вскоре после начала моей практики.
Пан Фердинанд как раз вернулся со двора, где толок в ступке корицу, и направился на склад, взял из шкафа баночку гуталина, обувную щетку, и тут я тоже зашел на склад.
– Подите сюда, молодой человек, – обратился он ко мне.
Я подошел поближе.
– У вас много слюны?
– Много.
– Хорошо, – одобрил пан Фердинанд, – а то у меня, пока я толок корицу, что‑то в горле пересохло.
– Ага, – ответил я, не понимая, к чему он клонит.
– Если гуталин растереть с обыкновенной водой, – продолжал посыльный, – ботинки до нужного блеска не доведешь.
– Вы правы, – согласился я.
– А со слюной блестит, – заметил пан Фердинанд и добавил: – Ну!
Я молчал, и пан Фердинанд воскликнул:
– Вас что, убудет, молодой человек, если вы плюнете мне в гуталин?.. Сразу бы догадаться, – проговорил он, когда я выполнил его просьбу, – надо помогать друг другу. Наш брат должен поддерживать своих, – разглагольствовал он, начищая ботинки, – так уж на свете повелось, молодой человек, и так оно и будет до скончания веков. – А большие господа, – совершенно неожиданно закончил он, – будут мешать беднякам поддерживать друг друга. Глупые мы еще очень, молодой человек, – продолжал он свои рассуждения, – сожрать друг друга готовы. Лучше всего это видно у нас в Михеле. Знаете, где Михель?
– Да.
– Я ведь живу в Михеле, а рядом со мной живет тоже посыльный, я получаю в неделю на четыре гульдена больше, чем он, и могу пропить на четыре гульдена больше, он из‑за этого злится и кричит в коридоре, что‑де в один прекрасный день меня выведет на чистую воду и я на всю жизнь это запомню. Недавно вот кричал, что я обокрал нашего старика в «сортировке» на фактуре, он‑де знает, как это делается. Я рассердился и говорю: «Не все же, Плачек, воруют так глупо, как ты, жулик. Когда ты работал на той фабрике, в проходной расстегнули твой жилет и сразу увидели, что ты тащишь домой, ворюга».
Пан Фердинанд был сильно взволнован, это чувствовалось по той скорости, с какой он чистил ботинки. Щетка летала с неимоверной быстротой, а пан Фердинанд хмурил свой высокий лоб и рассказывал дальше:
– Теперь, говорю, слово за тобой, Плачек, и Плачек встает посреди коридора и начинает вопить: «Ах ты, каналья аптекарская, да от тебя за две мили несет вашими пойлами». – «Веди себя прилично, Плачек, – отвечаю, – я о тебе ничего дурного не сказал, а ведь ты только ругаться умеешь, ворюга». Плачек выскочил в коридор и заорал: «Ты продал ботинки своего сына, и мальчишка ходит босой, сбыл на сторону кило перца, откуда ты его взял? Свернул челюсть жене, разбойничья морда, в трактире украл солонку, и все за одну только неделю». Я говорю: «А за «морду» – в морду». – Пан Фердинанд умолк, затем продолжал: – Дрянной человек Плачек, дал‑то я ему всего разок‑другой, а он собирается теперь подавать на меня в суд. Опять у меня слюни кончились, плюньте, молодой человек, еще в гуталин. Вода такого блеска не дает. Ну вот! Спасибо. Надо помогать друг другу…
Я вернулся в лавку, и пан Таубен сразу спросил:
– Не слишком ли сегодня от пана Фердинанда разит пивом?
– Не знаю, разве тут разберешь, – ответил я.
– Вы правы, из‑за его одежды… – сказал приказчик, – но на всякий случай предупредите, пусть пожует лимон, потому что его старик ждет, чтобы послать с тележкой за олифой.
4. Пани Колошкова
С первого взгляда мне стало ясно, отчего пан Таубен называет жену хозяина латинским словом «ацидум», то есть кислота.
На следующий же день после нашей беседы с паном Фердинандом она появилась в лавке часов в девять утра.
Не успели старые часы на стене прохрипеть девять, как дверь с надписью «Добро пожаловать» раскрылась, потянув за веревочку висевшего над дверью ангелочка, ангелочек сделал поклон, звякнул колокольчик, и в лавку величавой поступью аббата, идущего взглянуть, не пьют ли монахи в подвале вино, вплыла толстая высокая напудренная женщина с довольно красивыми, несмотря на полноту, чертами лица, в крикливой шляпке и шелковом платье, шуршанье которого было слышно издалека.
Пан Таубен, только что отпускавший шуточки, принял вдруг серьезный вид, быстро шепнул мне: «Наша старуха» и тотчас громко поздоровался:
– Целую ручку, милостивая сударыня.
Я подбежал и поцеловал пани Колошковой руку.
Пани Колошкова не соизволила удостоить нас ответом, подошла к прилавку и спросила:
– Где хозяин?
– В конторе, милостивая сударыня, – ответил приказчик и с поразительной резвостью помчался по проходу между прилавком и полками, открыл застекленную дверь в деревянной перегородке и воскликнул:
– Простите, пан хозяин, милостивая сударыня в лавке.
Из‑за прилавка выбежал маленький муж и принес своей высокой жене стул, почтительно приветствуя ее:
– Как поживаешь, Мароушка? Как приятно, что ты зашла навестить нас.
– А ты спишь в конторе, – сердито ответила пани Колошкова, – спишь и не видишь, что пан Таубен со всеми удобствами расселся на прилавке и зевает…
– Но позвольте, милостивая сударыня, – возразил пан Таубен.
– Что я, не видела? – быстро заговорила пани Колошкова. – Вы сидели на прилавке, били баклуши, зевали. Уж конечно, после кутежа так и тянет на зевоту.
– Я был дома, милостивая сударыня, – защищался приказчик.
– А у кого глаза ввалились? – бушевала супруга нашего хозяина. – Думаете, по вас не видно, что вы всю ночь сорили деньгами?
– И ты это терпишь? – быстро повернулась она к своему мужу. – На то ты и хозяин, чтоб запретить молодым людям растрачивать свои силы по трактирам.
– Впредь этого не повторится, – удрученно ответил пан Колошка.
– Да что вы, нигде я вчера не был, – протестовал пан Таубен, – у меня уж и деньги кончились.
– Ага, – сердито сказала пани Колошкова, – значит, когда у вас есть деньги, вы ходите и тратите их, что ж после этого удивляться, что вы похожи на мученика!
(Справедливости ради следует заметить, что до прихода пани Колошковой у пана Таубена был прекрасный цветущий вид.)
– Швыряетесь деньгами, – продолжала пани Колошкова, – и после такой ночи не можете толком обслужить покупателей.
– Но тебе, Колошка, все едино, – повернулась она к своему мужу, казавшемуся в эти минуты еще меньше обычного, – тебе бы только спать в своей конторе. Без меня ты бы уже двадцать лет назад обанкротился.
– Если кто‑то войдет… – робко произнес пан Колошка.
– Если кто‑то войдет, – ухмыльнулась пани Колошкова, – я и при нем скажу. Что тебя тогда спасло? Пятнадцать тысяч моего приданого! Они тебе и по сей день помогают держаться на поверхности. Не присматривай я за торговлей, давно бы все пошло прахом. А что я за это имею? У супругов Базовиц есть вилла под Добржиховицами, а у них доходы меньше наших. Сколько лет я твержу тебе, что надо построить виллу, да где там! Пан Колошка лучше себя побалует. В десять часов он пьет пльзеньское, ест сардинку, потом кофе со сливками, ему и дела нет, – может ли его жена себя чем‑нибудь побаловать, хотя он прекрасно знает, что если б не жена, он уже двадцать лет назад обанкротился бы. Тогда б тебе было не до пльзеньского с сардинкой, – продолжала она браниться, развивая свою, видимо, любимую тему, – и ты не пил бы кофе со сливками. И не возникало б жажды от сардинки. Попробуй только вечером послать служанку за пивом, а потом обнимать меня. Уж лучше б меня другие обнимали, не ты. Если б не мой отец, которому ты задолжал, я бы сроду за тебя не вышла. А бедный папочка рассчитывал хоть таким путем вернуть свои деньги. Твой тесть слишком добр к тебе, он все делает для того, чтоб в семье не было раздоров и ссор и чтобы я, твоя несчастная жертва, не страдала еще больше.
Я хочу видеть книгу ежедневных расходов за последнюю неделю, – приказала она, переводя дыхание, – немедленно принеси ее!
Пан Колошка исчез за деревянной перегородкой, тут же вернулся с книгой и почтительно положил ее на прилавок.
Пани Колошкова поднялась со стула, пан Колошка придвинул стул к прилавку, жена снова села и начала внимательно изучать каждую статью ежедневных расходов за последнюю неделю.
Вид у пана Колошки в эти минуты был довольно‑таки жалкий, не сравнить с тем, когда он говорил мне: «Итак, с сегодняшнего дня вы мой новый практикант». Тогда он держался гордо и независимо, а тут дрожал и бледнел, опираясь о прилавок, и с невероятно почтительным и смиренным выражением лица вслед за женой переводил страдальческий взгляд с одной строчки на другую. Мне показалось, будто он делает робкую попытку прикрыть локтем какую‑то запись внизу страницы.
Стояла тишина. Слышно было, как тикают карманные часы пана Таубена, а в какой‑то момент мне померещилось, будто я слышу, как стучит сердце пана Колошки.
Пани Колошкова отстранила локоть супруга и продолжала изучать записи.
– Что это такое? – вырвалось у нее, когда ее неумолимый взгляд дошел до места, где только что лежал локоть ее удрученного супруга. – Что такое? «Разные расходы 23 гуль. 50 кр.» Какие такие разные расходы?
Если до этого вид у пана Колошки был жалким, то сейчас он стал просто плачевным. Пан Колошка открыл рот, собираясь что‑то сказать, но слова застряли в горле. Его затрясло, зуб на зуб не попадал, словно он вылез из теплой воды и его неожиданно обдуло холодным ветром.
Зоркий взгляд пани Колошковой остановился на его трясущейся челюсти, выбивавшей мелкую дробь: та‑та‑та‑та‑та.
– Что это? – загремела пани Колошкова. – Куда пошли эти двадцать три гуль, пятьдесят кр?
В ответ – ни слова, лишь зубы пана Колошки еще более дробно выбивали: та‑та‑та‑та.
– Объяснишь ты или нет? – менторским тоном произнесла пани Колошкова.
– На‑на‑на‑на сар‑сар‑сар‑сардины и‑и пль‑пль‑зень‑зень‑пль‑зеньское пи‑пи‑пиво, – трепетал пан Колошка, – и‑и‑и за‑за‑за бу‑бу‑булки и‑и ко‑ко‑кофе.
– Ты мне зубы не заговаривай! – кричала пани Колошкова – Ты содержишь какую‑то женщину, даешь ей деньги, а семью свою обираешь. Всех нас обираешь!
Пан Колошка собрался с духом и заговорил:
– Ты не права, голубушка, я… признаюсь – я разбил твою памятную вазу, которая стояла в гостиной, пришлось купить новую, чтобы ты не узнала, и поставить на место старой…
После этих слов книга расходов полетела в голову пана Колошки, но, миновав свою цель, проследовала дальше, по направлению конторки, стул был отброшен в сторону, пани Колошкова, побагровев, что было видно даже сквозь румяна, устремилась к двери, проговорив медленно и весомо:
– Обедать домой не приходи, а вечером ты у меня получишь!.. Ну обожди. – Ее последние слова донеслись уже от порога, и пани Колошкова стремительно распахнула дверь.
Звякнул колокольчик, ангелочек на дверях с надписью «Добро пожаловать» механически поклонился, и шлейф пани Колошковой резко взметнул пыль тротуара, словно желая наглядно продемонстрировать ее ярость.
Пан Колошка, казалось, задышал чаще, словно человек, вырвавшийся из душного помещения на свежий воздух, и, глубокомысленно склонив голову, направился за деревянную перегородку, бросив в мою сторону хозяйским тоном:
– Вы, наверное, знаете поговорку «Сор из избы не выносят», а не знаете – запомните. – Пан Колошка исчез в конторе, и вскоре оттуда послышался его голос: – Пан Таубен, зайдите!
Вернувшись от хозяина, пан Таубен сказал мне смеясь:
– Перетрусил старик. Справлялся, в какой бы гостинице ему лучше переночевать. – И тут же назидательно заключил: – Сами видите, молодой человек, ацидум и есть ацидум, что значит кислота.
5. Посетители лавки
Первым в лавке ежедневно появлялся Броучек, рассыльный. Он ждал открытия на улице и входил в лавку со словами:
– Дай вам бог доброго утра, на два горькой.
Мы ему наливали по знакомству, он, причмокнув от удовольствия, возвращал пустую рюмку и всякий раз замечал:
– Согревает, проклятая, вам бы распивочную открыть?
Впервые увидев меня, Броучек сказал:
– Держитесь молодцом, парень, всем нам на радость.
Иногда вместе с ним ждал открытия и толстый полицейский, несший службу на этой улице. Сей господин производил внушительное впечатление не столько саблей и револьвером, сколько своей толщиной; переступив порог лавки, он отдавал честь и произносил:
– Все в порядке.
Пан Таубен и ему наливал рюмку горькой, разумеется, бесплатно. Толстый полицейский выпивал ее и, отдав честь, заключал:
– Все в порядке.
После чего уходил.
Рассыльный Броучек ненадолго задерживался в лавке, давая оценку вчерашней погоде: «Вчера шел дождь» или «Такого прекрасного дня, как вчера, я не помню», «Вчера было холодно». Потом со словами: «Всего вам доброго, за мной еще два» – уходил.
После него обычно появлялась старая еврейка пани Вернерова, хозяйка распивочной по соседству.
Она приходила с огромной стеклянной бутылью и ежедневно покупала шесть литров чистого спирта.
– Um Gottes willen[2], пан Таубен, – говорила она, – подумать только, вчера у нас снова подрались. На меня страх нападает, стоит мне вспомнить, что я одна в распивочной, боюсь, изобьют меня, как бивали моего покойного мужа.
И по крайней мере раз в неделю, особенно если заставала в лавке еще кого‑нибудь, она непременно рассказывала историю, самую заурядную для винных погребков, когда хозяина избивали пьяные, которых сам же он и напоил, пусть даже на их последние деньги.
– А покойный, – добавляла она жалостливо, – был такой добряк, ein golden Herz[3], сроду водки не разбавлял, а они его, бедняжку, побили из‑за какой‑то мухи в рюмке. Ja, ja, eine Fliege[4], он же не нарочно!
Расплачиваясь, она всякий раз торговалась, уверяя, будто читала вчера в газетах, что цена чистого спирта упала на два крейцера за литр.
Следом за ней появлялась дворничиха Паздеркова, приходила за своей порцией тминной, а заодно истолковать сон пана Таубена, объяснение которого всегда заканчивала словами:
– Да, так и есть, почить вам сном праведных.
Шельма пан Таубен всякий раз рассказывал, что ему снились белые лошади.
Доверительно справившись о здоровье пана Колошки, хозяина, и пана Фердинанда, она принималась жаловаться на жильцов. И в заключение горько сетовала, что учитель опять оставил вчера ее Францека без обеда.
После ее ухода заглядывал перед школой рыжий Францек – просил кусок лакрицы или стеклянную трубочку, если в этот день собирался стрелять в школе горохом, и всякий раз добавлял, что мама заплатит.
Затем приходили барыни и служанки по дороге на рынок. Чего только они не покупали – травы от кашля и хрипов, рвотное и противорвотное, слабительные от самых легких до самых сильных, разные мази, губки для мытья, мастику для пола, желудочные капли, пудру и другую косметику, и прочее, и прочее…
Барыни, особенно помоложе, торговались. Заходила пани Воглова, супруга скорняка, за средством от моли. Это была пожилая женщина, которая вечно торопилась: «Да поживей, поживей», словно моль за эти пять минут могла невероятно размножиться. Заходила пани Кроупкова, молодая супруга слесаря, и жаловалась обычно на несварение желудка у мужа.
– Готовьте ему сами, милостивая сударыня, – советовал пан Таубен.
– Да я сама и готовлю, – наивно отвечала молодая женщина.
Приходили покупатели, которым, судя по всему, величайшее удовольствие доставляли пререкания с паном Таубеном. Среди них особенно выделялся пан Кршечан. Он ходил к нам по субботам с утра, когда было больше всего покупателей, немилосердно расталкивал всех, пробиваясь к прилавку с криком:
– Вы мне снова прошлый раз подсунули дрянь. Это разве липовый чай? Да это просто дорожная пыль! Имейте в виду – я покупаю у вас много лет. Это надо учитывать, уважаемый. Не так ли? Вам нечего сказать? В таком случае дайте мне на сорок крейцеров липового чая, но если и на этот раз будет одна пыль, я пожалуюсь на вас в магистрат.
После этой тирады он доставал табакерку, открывал ее и, перегнувшись через прилавок, предлагал:
– Понюхайте, пан Таубен, помогает хорошему самочувствию.
Мы называли его полоумный пан Кршечан.
Приезжая в Прагу, к нам заходил мельник Влашек, откуда‑то из‑под Чешского Брода. Он клал шляпу на стол, с серьезным видом извлекал из кармана листок, где было записано, что надо купить землякам – пану учителю, пану священнику и остальным.
Он с достоинством протягивал листок пану Таубену и заводил разговор о полевых работах: «Начинаем косить за рекой» или: «Пора скородить», и тому подобное, вроде: «Пшеница уже наливается».
– Все, значит, – произносил он, когда товар по списку лежал перед ним на столе, – а еще мне дайте пакет целебных трав для коров.
Частым посетителем был в лавке также высокий господин в черных очках, говорили, что он директор какого‑то небольшого сиротского дома.
Наклонившись над прилавком, он всегда шепотом просил у пана Таубена:
– Мне полкило ртутной мази.
Ах эта ртутная мазь! В моей памяти тотчас воскресала двести тринадцатая страница из «Естественной истории животного мира» Покорного, и я видел себя маленьким гимназистом, который учит наизусть: «Ц. Бескрылые. Вошь детская (Pediculus capitis) – серо‑желтая, бескрылая. Имеет короткие усики и вытянутый хоботок, с помощью которого она высасывает кровь. Встречается только на голове, в основном у детей».
Наш учитель естественной истории при этом произносил:
– И тогда маленьким детям мажут голову ртутной мазью. Не смейтесь там, на последних партах.
Бедный директор сиротского дома! Знал бы он, что вместо ртути мы кладем в мазь порошок графита, который в двадцать раз дешевле.
– Не все ли равно, – смеялся обыкновенно после его ухода пан Таубен, – у сироток, по крайней мере, почернеют головы и они смогут играть в арапов.
Покупатели приходили и уходили, старики, молодые, господа, дамы, девицы, дети, веселые, как, скажем, трактирщик с Малой Страны, покупавший у нас чемерицу чихательную, которую он подмешивал в табак и предлагал эту умопомрачительную понюшку посетителям трактира; люди печальные, вроде пана Вагнера, пенсионера, который постоянно покупал желудочные капли и разные травы для желудка, пока вконец его не испортил, или вроде слепого Йозефа, старичка нищего, который стучал палкой о порог и всякий раз просил другие травы – сушеный василек, пион и тому подобное. Дома он их жег и окуривал дымом свои незрячие глаза в надежде, что в один прекрасный день отыщет траву, которая принесет избавление не только ему, но и другим слепым.
Приходили барышни за духами и пудрой, зардевшись, спрашивали различные косметические средства, которые особой пользы коже не приносят, но употребление которых является признаком хорошего тона.
Приходили скрипачи за канифолью, случалось, гимназисты и реалисты, воодушевленные химическими опытами, покупали химикаты, с осторожностью унося их, дважды в неделю появлялась дворничиха из соседнего дома за ядом для крыс. Прибегали смешливые служанки за щелоком, которым тайком от хозяек пользовались при стирке белья. Являлся также сторож одной из гимназий за лабораторной посудой и химикатами для опытов; он был страшный педант и требовал, чтобы ему все как следует упаковали.
– Как бы меня не разнесло в клочья когда‑нибудь, – говорил он, осторожно рассовывая по карманам пальто покупки.
Приходил почтальон, приносивший заявки от заказчиков и всевозможные прейскуранты, и неизменно получал рюмку английской горькой.
Заглядывали в лавку агенты различных фирм со словами:
– Сегодня ничего не нужно? У нас дешево.
А по пятницам один за другим являлись нищие со всей округи за своим крейцером. Захаживали и бродячие подмастерья или разносчики аптекарских товаров в надежде на вспомоществование или на место.
Все они – знакомые и новые лица – и были посетители лавки.
6. На чердаке
Лезть на чердак надо было по деревянной, видавшей виды лестнице, каждый шаг по которой сопровождался звуком, напоминавшим гомон птиц, пробуждавшихся утром ото сна. Это было довольно нежное верезжание и одновременно посвист.
Рыжий Францек любил коротать время, вызывая этот звук.
Впервые поднимаясь на чердак, чтобы по распоряжению пана Колошки отыскать посыльного пана Фердинанда, который два часа назад отправился в эти, доселе неведомые для меня пределы, чтобы просеять отруби, важнейшую составную часть наших целебных трав для скота, я увидел рыжего Францека на середине лестницы, он разгонял скуку, прыгая на одной ноге со ступеньки на ступеньку вверх и вниз, заставляя тем самым лестницу скрипеть и визжать.
Свои своеобразные, непостижимые для меня развлечения он объяснил так:
– Я вот уже полчаса прыгаю, жду, когда старикан со второго этажа, который живет возле лестницы, спятит. Скоро опять вылезет.
И действительно. Я не так уж долго наблюдал забаву рыжего Францека, как вдруг распахнулась дверь квартиры, и на лестницу с криком выскочил старый господин в халате, держа в руке розгу:
– Проклятый мальчишка, я вот тебя отстегаю, дашь ты мне покой?!
Он спустился на две ступеньки, размахивая розгой, рыжий Францек еще три раза подпрыгнул, лестница трижды издала свой нежный, но пронзительный скрип, после чего Францек задал стрекача.
– Поймайте мне этого мальчишку, – попросил меня старый господин. – Впрочем, не стоит, я до него и так доберусь. Ведь это же все равно что вилкой скрести по тарелке.
Старый господин с розгой вернулся к себе домой, а я продолжал свой путь в неведомые края.
Я шел по длинной крытой галерее двухэтажного дома. На перилах сушилось белье. Из какого‑то открытого окна донесся женский голос:
– Это новый практикант.
Я посмотрел вниз, во двор. Францек, засунув руки в карманы, выходил из своей квартиры.
Дворничиха стояла в дверях и кричала:
– Пусть только пан канцелярист до тебя дотронется, я ему покажу где раки зимуют.
Францек вернулся на лестницу, и вскоре послышался знакомый визг и скрип старых деревянных ступенек.
Дойдя до конца галереи, я поднялся по лестнице на чердак. В коридоре, у нижних ступенек лестницы, которая вела в самую высокую часть дома, мне бросилась в глаза надпись на грязной штукатурке, сделанная черным углем: «Практикант Йозеф Кадлец последний раз был здесь 29 февраля перед отъездом в Кладно, где он завершит практику. Ему здесь жилось хорошо».
Ниже не столь уверенным почерком было выведено: «Практикант Йозеф Кадлец был доносчик и осел. Фердинанд ».
Под комментарием пана Фердинанда довольно искусно был нарисован кувшин и карты, с письменным признанием: «Это – самое лучшее».
Я решил, что почерк принадлежит пану Таубену.
Напротив была нарисована большая бочка, а возле нее уродливый человечек и пояснение: «Радикс наливает малагу».
А выше, у самых дверей чердака, синим мелом было написано: «Пан Фердинанд ходит к дворничихе».
Надписи довершала последняя, выведенная на двери черным лаком: «Чердак лавки москательных и аптекарских товаров».
Дверь была закрыта, и, когда я распахнул ее, на меня повеяло одурманивающим ароматом сушеных трав, а до моего слуха донесся какой‑то храп, позволяющий понять народное выражение: «Будто дрова пилят».
Меня окутало таинственным полумраком. Я свернул направо и вошел в отпертую дверь, огромный замок которой, мирно болтавшийся на засове, напомнил мне вход в тюрьму.
Через стеклянную крышу сюда проникал слабый свет, тускло освещая ряды бочек с пыльными крышками, где хранились всевозможные травы.
От бочек шли одуряющие запахи. Они стояли по обе стороны прохода, а между ними валялись пустые бутылки, солома от упаковки бутылей, еще не сметенная в сторону, тут и там лежали разные просыпанные лекарственные травы, осколки стекла.
Среди бочек сразу бросались в глаза высокие посудины с порошковыми красками – желтой и коричневой охрой, красной глиной, – пол вокруг которых имел соответствующий оттенок. Несколько бочек было опрокинуто, и содержимое их смешалось с красками, химикалиями и сухими травами, покрывающими кирпичный пол чердака. В этом отделении хранились и небрежно прикрытые крышками ящики, в них сверкали кристаллы квасцов, селитры и прочих солей.
Узкая полоска света в углу падала на глыбы каменной соли, кристаллики которой переливались всеми цветами радуги. Рядом валялись сита и фарфоровая посуда, в которой растирают краски.
Между ящиками поблескивали жестяные баллоны с маслом, керамические сосуды с кислотами, заткнутые глиняными пробками; некоторые из них, вроде сосуда с азотной кислотой, дымились и, окутанные небольшими облачками, вызывали кашель.
В этой части чердака стоял резкий запах. Едко пахло аммиаком из стеклянного баллона – большой столитровой бутыли, от белой хлорной извести в открытой бочке першило в горле.
Глаза постепенно привыкали к полумраку, и я увидел, что стою возле лестницы. Мне надо было, как я уже говорил, найти пана Фердинанда, но это оказалось непросто.
Правда, войдя, я сразу же услышал храп – верный признак того, что посыльный здесь; храп мог бы служить мне ориентиром, но не тут‑то было.
«Кху‑пу‑кху‑пуу‑кху‑пу» доносилось то из одного угла, то из другого.
– Пан Фердинанд, – кричал я, поворачиваясь то в ту, то в другую сторону, – несите просеянные отруби вниз!
В ответ – лишь приглушенный храп: «Кху‑пу‑кху‑пу», эхо которого разносилось по всему чердаку, сбивая меня с толку, и я не мог понять, где искать спящего пана Фердинанда.
– Пан Фердинанд, – снова закричал я, – вы тут уже два часа, отнесите просеянные отруби вниз!
Никакого впечатления.
Теперь он дышал носом: «Пфу‑пфу‑фу».
Я поднялся по приставной лесенке в другую часть чердака, намереваясь продолжить поиски.
На настиле среди стропил и балок лежали мешки с сушеными травами, шуршащими при каждом шаге.
Здесь было посветлее. Я осмотрелся вокруг.
Сперва мне показалось, что пан Фердинанд храпит слева, за грудой набитых мешков. Я перелез через мешки – там было пусто.
Я продолжил свои поиски справа, и действительно, пан Фердинанд спал там. Ложе его было устлано розами. В полном смысле слова: он спал на куче сухих розовых лепестков. Он лежал, удобно вытянувшись, прикрыв лицо пиджаком, который приглушал храп.
Я стал будить его, дергая за ногу:
– Пан Фердинанд, вам надо снести просеянные отруби вниз!
После третьей моей попытки пан Фердинанд проснулся, сбросил с лица пиджак, приподнялся, зевнул и произнес:
– Это вы, молодой человек? Я тут вздремнул малость.
– Несите отруби вниз, – повторил я, – вы здесь сидите уже два часа.
– Что, отруби? – испугался пан Фердинанд. – Я про них начисто забыл. Прилег на пять минут да проспал. Да, уходился я. Вот что. А теперь еще отруби просеивай.
Пан Фердинанд надел пиджак, вскочил и сказал:
– Здесь хорошо спится. Если б я втянул лестницу наверх, вы бы меня, молодой человек, не нашли.
Мы стали спускаться вниз. Пан Фердинанд обернулся на последней ступеньке и умиротворенно произнес:
– А летом, когда бабы нанесут свежих трав, спится еще лучше. Будто в деревне на сене. Разляжешься – и спишь себе. А старику нашему скажите, что у меня пошла носом кровь, поэтому я еще не закончил.
Когда я покидал чердак, рыжий Францек все еще прыгал, заставляя старые ступеньки скрипеть.
– Что мне сказать? Когда вы придете? – крикнул я в полумрак чердака.
– Когда закончу; – ответил пан Фердинанд.
Голос его доносился сверху – пан Фердинанд поднимался по лесенке на свое прежнее место, устланное розами, в прямом смысле этого слова…
7. Тележка
Постепенно я ознакомился со всем заведением: подвал, чердак, сводчатый склад за лавкой, сарай во дворе, где пан Фердинанд толок коренья и где, кроме большой ступки с тяжелым пестиком, хранилась ручная тележка, периодически менявшая окраску. Тележка, с которой пан Фердинанд ездил за товаром или развозил его, была предметом его гордости.
Ни один посыльный не мог похвастать такой красивой тележкой, колеса, рама, короче, все части которой были раскрашены в яркие цвета – синий, красный и зеленый.
Завидев тележку, всяк отзывался о ней одобрительно, но пану Фердинанду было этого мало. Он вечно возился с ней, перекрашивал ее, отводя для этой цели, как правило, субботу пополудни, чтобы за ночь и воскресенье тележка как следует просохла.
А в понедельник, куда бы он ни поехал, его тележка привлекала внимание новыми блестящими красками, смелым сочетанием цветов, обычно не применявшихся для окраски тележек.
То она переливалась всеми цветами радуги, а колеса были кроваво‑красные с зелеными и синими полосками, то колеса становились бронзовыми, а сама тележка черной в желто‑белую полосу. Через неделю все менялось. Тележка оказывалась покрыта зигзагами коричневого и белого цвета, а колеса были желтые с черными полосами.
Столь смелые комбинации, все новые и новые сочетания цветов могли возникнуть лишь в голове пана Фердинанда за его высоким челом. Пан Фердинанд любил свою тележку отечески нежно, как заботливый воспитатель, он стремился, чтобы его подопечная всегда была нарядна.
Пренебрежительно отозваться о тележке означало навсегда восстановить против себя пана Фердинанда.
Когда однажды косой Венца, подмастерье мясника из нашего дома, отважился заметить в пивной, что тележка похожа на размалеванного индейца, пан Фердинанд вспомнил свою излюбленную присказку «За «морду» – в морду» и тут же перешел от слов к делу.
– Я тебе покажу размалеванного индейца, косой черт! – Голос его слышен был даже во дворе.
С тех пор они сделались заклятыми врагами и выражали свою неприязнь взглядами и словами.
Косой Венца, быть может, и помирился бы; во всяком случае, когда пан Фердинанд угощал в пивной своих друзей, заказав двухлитровые кружки пива, он подошел к нему и сказал:
– Надеюсь, вы больше не сердитесь, пан Фердинанд?
Пан Фердинанд лаконично ответил:
– Сержусь, косой черт. – А когда двухлитровая кружка пошла по кругу, заявил: – Косоглазым не давать!
Он был нетерпим к любому, кто непочтительно отзывался о его прекрасной тележке.
А как тщательно обследовал он каждый вечер, – хорошо ли заперт сарай, где покоилась его тележка, и нередко, как бы не доверяя себе, возвращался и заново осматривал замок.
– Спокойной ночи, тележка, – произносил он обычно. А утром первым делом шел к сараю – не украл ли кто ее ночью.
– Доброе утро, тележка, – говорил он, – вот и я. Работа начинается.
Тележка была его верным товарищем, и надо было видеть, как пан Фердинанд толкает ее, важно покуривая фарфоровую трубку! А если где‑нибудь по пути он останавливался в трактире, любо‑дорого было посмотреть, с какой отеческой заботой оберегал он свою тележку, стоящую на улице. Он следил за ней в окно и настораживался, если какая‑нибудь подозрительная личность приближалась к его подопечной.
Она приносила ему не только славу, но и барыш. Он возил в ней со станции или со складов крупных фирм разные товары, ловко проскальзывая мимо таможенных пунктов, где взималась пошлина за продовольственные товары, и, таким образом, деньги за провоз вина, спирта и тому подобного, которые должны были достаться городу, доставались ему.
Обманывая бдительность таможенников, он применял различную тактику; чаще всего он быстро проскальзывал через таможенную черту между двумя телегами.
Здесь, конечно, требовался особый талант. Надо было выискать такие улицы, где движение особенно оживленное, и, выждав удобный момент, проскочить под прикрытием других повозок. Быстро едущие легкие экипажи для этого не годились, а вот дождавшись тяжело груженных телег, он подъезжал именно в тот момент, когда они следовали за таможенную черту, уже заплатив пошлину. А потом, ловко затесавшись меж ними и глядя в оба, сперва не спеша, а потом все быстрее и быстрее и, наконец, бегом – мимо бдительных стражей, толкая перед собой тележку, так что бочки и прочий груз только подпрыгивали. Прохожие даже не успевали заметить тележку, как она уже проносилась мимо.
Пан Фердинанд сворачивал в тихий переулок и там, замедляя темп, в конце концов снова толкал тележку солидно и не спеша, попыхивал фарфоровой трубкой и время от времени останавливался, чтобы утереть пот со лба или прикинуть, на какую, собственно, сумму рискнул он надуть таможню и магистрат.
Деньги, добытые таким способом с помощью своего удивительного таланта, он прятал в кошелек, чтобы в самое ближайшее время истратить их в первом попавшемся трактире.
И тут, сидя неподалеку от двери, он с благодарностью поглядывал на тележку, стоящую у тротуара. Не подвела! А если б в решающий момент, когда он пересекал таможенную черту, колеса его тележки вдруг отказали бы? Если б вдруг прогнулась тщательно смазанная ось? Нет, тележка его не подведет.
Но однажды случилось невероятное. Пан Фердинанд вернулся под вечер с товаром, но в каком виде была тележка! Забрызганная, на колесах комья грязи.
Все смотрели с изумлением. Пан Фердинанд сгрузил товар и, не вычистив тележку, грубо затолкал ее в сарай и запер.
И перед закрытием лавки не пошел, как обычно, взглянуть, хорошо ли защелкнут замок, и не произнес: «Спокойной ночи, тележка», зато пану Таубену он сказал, показывая желтый листок:
– Впервые меня зацапали. Аккурат, когда я пересекал черту, эта проклятая тележка стала и ни с места. Колеса застопорились. Ну я и попортил ей красоту в луже.
Больше пан Фердинанд не раскрашивал свою тележку.
8. Тесть пана Колошки
О нем зашла речь однажды в обеденную пору. Пан Колошка ушел обедать, посетителей в лавке не было, пан Таубен сидел спиной к двери на одном конце прилавка, пан Фердинанд на другом. Это время отводилось для бесед.
– Чего только Радикс не терпит от своего тестя, – проронил вдруг пан Таубен, закуривая сигарету.
– Будь у него теща, и то легче было б, – веско добавил пан Фердинанд, – хоть и болтают про женские языки, но уж если тесть начинает высказываться, хорошего не жди.
– И чем старее, тем он все хуже, – продолжал пан Таубен. – Недавно Радикс рассказывал одному знакомому, что тесть думает, будто Радикс взял концессию на продажу яда только для того, чтобы его отравить. Лекарства для себя он берет не у нас, а в аптеке. Когда Радикс приходит домой, тот обшаривает карманы его пиджака – нет ли в них какого яду. Страшное дело, пан Фердинанд, иметь такого тестя.
– Весьма печально, пан Таубен, – подхватил пан Фердинанд, – если тесть швыряет вечером в своего зятя ботинок. Мне про это недавно служанка рассказывала. Правда, в Радикса он не попал. Сами понимаете, человек пожилой, рука неверная. Но какова дерзость, пан Таубен! На такое может решиться только очень дурной человек. А в довершение всего Радикс и рта раскрыть не смеет, потому что там еще и Ацидум. Жена злющая, тесть злющий, оба бешеные. Это, доложу вам, пан Таубен, тяжкое испытание.
– К тому же, – вставил пан Таубен, – тесть вечно попрекает зятя деньгами, что дал ему на торговлю. Вы знаете, пан Фердинанд, как Радикс женился на своей кислоте?
– Уж толком и не помню, – ответил пан Фердинанд, – бондарка Кроупкова говорит, что вроде заперли как‑то Радикса в комнате да заставили попросить ее руки.
– Ну, это не совсем точно, – произнес приказчик. – Дело было вот как. Радикс еще в холостые годы держал эту лавку, а его нынешний тесть Ванёус владел в ту пору крупной фабрикой по переработке лекарственных трав. Весь товар Радикс получал от Ванёуса. Но тогда Радикс обходился на завтрак не только сардинкой, булкой да кружкой пива, а ел и пил вволю. Ел и пил в лавке, вечером запирал ее и продолжал свое в другом месте. Молодой да неженатый, он срывал цветы удовольствия, за всех расплачивался, а долги росли чем дальше, тем больше. Радикс тратил деньги, полученные за товар, взятый в кредит на фабрике своего нынешнего тестя. Он вообще ему не платил, забирая все новый и новый товар. Тот посылал напоминания, и в один прекрасный день Радикс отправился просить пана Ванёуса любезно отсрочить платежи. Он явился к нему домой и именно там впервые увидел свою нынешнюю жену, Ацидум. Старый Краус, который служил здесь до вас, рассказывал, что в молодости Радикс был красивым, любил увиваться за женщинами и язык у него был хорошо подвешен. Пану Ванёусу он понравился, и тот извинился за напоминание о деньгах. Он даже пригласил Радикса заходить в гости. Радикс и похаживал, брал при этом с его склада товары в кредит и ничего не платил. Когда долг достиг огромных размеров, Радикс прекратил свои визиты. Это, ясное дело, пана Ванёуса разозлило, он написал ему письмо: мол, передает дело в суд, чтоб Радикса признали несостоятельным должником. Старый Краус рассказывал, что Радикс тогда решился: «Завтра пойду туда и покончу со всем. Что поделаешь, Краус, если пан Ванёус объявит меня банкротом, лавку мою продадут, придется начинать все сначала». И еще Краус рассказывал, со слов Радикса, о его визите к пану Ванёусу. «У меня душа ушла в пятки, говорил ему Радикс, когда я поднимался по лестнице к Ванёусам, ноги дрожали, а все тело будто током било. Денег у меня не было, я шел без всяких надежд на то, что пан Ванёус сжалится и не потянет меня в суд. Прихожу, а пан Ванёус говорит: «Идите сюда». Завел меня в комнату, запер дверь и накинулся: «Сударь, у вас нет. ничего. Вы обманщик, вы транжирите деньги, берете у меня товар в долг, обещаете заплатить, но это лишь пустые слова». – «Смилуйтесь, говорю, я исправлюсь». – «Все это болтовня, – кипятился пан Ванёус, – так мне сроду не вернуть своих денег». Походил раздраженно по комнате, вдруг оборачивается и спрашивает: «Пан Колошка! У вас еще есть долги?» – «Да! В Усти‑над‑Лабой». – «Сколько?» – «Около пятисот гульденов». Пан Ванёус начал носиться по комнате и орать: «Так мне своих денег не вернуть, так мне своих денег не вернуть». Вдруг он чуть успокоился и говорит: «Я полагал, вы честный человек; вы ходили в гости ради моей дочери или просто для отвода глаз, чтоб я продолжал отпускать товары в долг?» Я, прямо обомлев от удивления, соврал, желая расположить его к себе. «Ради вашей дочери, пан Ванёус!» – воскликнул я, хоть и думать‑то о ней не думал. И начались чудеса. Пан Ванёус отпер дверь и позвал дочь. Она вошла, и он сказал: «Мари, пан Колошка просит твоей руки, если ты согласна, я не возражаю». Не успел я опомниться, как эта женщина едва не задушила меня в своих объятиях». Знаете, пан Фердинанд, старый Краус говорил, что, когда на другой день Радикс рассказал ему об этом, он разинул рот и минут пятнадцать не мог его закрыть. Вот как было дело, пан Фердинанд. В тот день Радикс получил жену и тестя в придачу, а тесть его рассчитывал получить свои деньги.
– Ужас, – вздохнул пан Фердинанд, – один день испортил Радиксу всю жизнь. Страшное дело иметь такого тестя.
– Тещи уже отжили свой век, – рассуждал пан Таубен, – и любая теща рядом со стариком Ванёусом сущий младенец. Раз пришел я к Радиксу домой в обед: тесть в очках сидел возле него и следил, чтобы он не взял вторую порцию. На обед у них было мясо под соусом, любимая еда Радикса, и он попробовал было взять еще кусок. Тесть заметил и разозлился: «Положи назад! У тебя и так была большая порция, вон и кнедлик остался, а ему еще подавай! На лакомые кусочки ты падок, как фокстерьер на крыс. Заставить бы тебя с недельку поголодать, вот бы ты помучился».
– В воскресенье после обеда он читает тестю газеты, – ввернул пан Фердинанд, – а жена отправляется на прогулку или в гости.
– Тесть вообще скверно обращается с Радиксом, – заметил пан Таубен, – как разозлится, запрет его трубку к себе в шкаф и с неделю не дает ему курить. А несколько трубок тесть уже разбил.
– Об него, – уточнил посыльный. – Служанка рассказывала, пришел как‑то вечером Радикс домой и машинально поздоровался: «Доброе утро». – «Повтори, что ты сказал», – потребовал тесть. Радикс перепугался и, заикаясь, робко произнес: «Доброе утро, папенька». Тесть схватил с подставки трубку и несколько раз ударил его. «Я тебе покажу, как дурачить старых людей! Экий обормот, – злился тесть, – вечером желать доброго утра!»
– Точно, он его бьет, – откликнулся приказчик, – вот уж испытание так испытание.
– Радикс посадил как‑то в палисаднике деревца, – сказал посыльный, – так тесть их срезал; наверно, Радикс уже ждет не дождется…
– Чего, пан Фердинанд?
– Ну, что в один прекрасный день мы запрем пораньше лавку и вывесим табличку, которую он заказал еще два года назад, когда тесть тяжело заболел, – ответил пан Фердинанд.
– А, – произнес пан Таубен, – вот вы о чем: «Сегодня, в связи с похоронами тестя, лавка закрыта».
– Совершенно верно, – ответил посыльный.
Разговор прервал господин, который вошел в лавку и попросил что‑нибудь от зубной боли…
[1] Живи и давай жить другим.
[2] Господи (нем.).
[3] золотое сердце (нем.).
[4] Да, да, муха (нем.).
Первая публикация: «Весела Прага», май 1909 – февраль 1910.